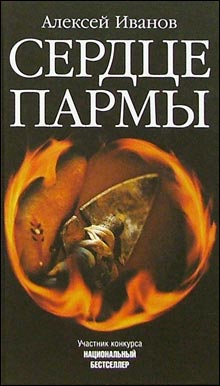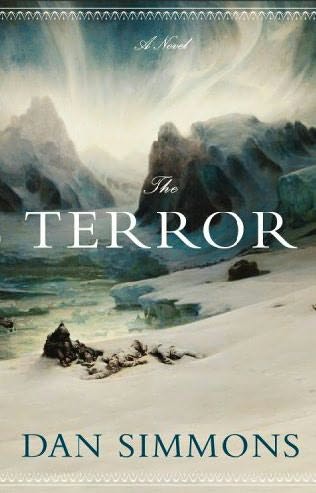Советы недели«Содержание» 24.04.09 - Алексей Иванов | «Сердце Пармы» 08.02.09 - Терри Пратчетт | «Мелкие боги» 23.12.08 - Юрий Бурносов | «Числа и знаки» 06.12.08 - Роджер Дж. Желязны | «Хроники Эмбера» 12.11.08 - Дэн Симмонс | «Террор» 03.11.08 - Саймон Грин | серия «Темная Сторона» Мало? Присылайте сюда свои рецензии, с указанием ника на librusec.review[дог]gmail.com! Условия - рецензия должна быть не менее 600 слов, а книга должна быть исключительно хороша. Еще можете посетить вот эту страницу (только для любителей фэнтези). А любители любовных романов, могут зайти сюда. 24.04.09 Алексей Иванов | «Сердце Пармы»
С творчеством Алексея Иванова я познакомился случайно, начав с откровенно слабой книги «Земля сортировочная», поэтому, взяв в руки «Сердце Пармы», я не питал особых иллюзий. Но, как же я ошибался! Сказать, что это исторический роман или географическое наследие Урала, не сказать ничего. Языческая Русь с ещё совсем робким и «тихим» христианством, пытающимся «открыть глаза» князьям и простолюдинам. Роман настолько глубоко пропитан духом русского голоса, что дать ему категорию «фэнтези» язык не поворачивается. Здесь нет троллей, эльфов и Толкииниского сюжета. Здесь есть древняя Русь, со своими богами, где православный князь живет бок о бок с женой язычницей. Две культуры, два наследия русской истории хлёстко окутывают всю книгу. В крови и нечеловеческих муках одна вера убивает другую. Шаманы и священники, Иисус на кресте и Золотая Баба – кипящий котел Пармы, где суждено раз и навсегда остаться на полях брани многим людям. Последующие книги Иванова не раз доказали, что этот человек обладает талантом настоящего писателя, но именно «Сердце Пармы» навсегда останется первой и знаковой в осознании ещё не угасшей великой русской литературы. В разнообразном творчестве Иванова встречаются не только исторические романы, но и современная проза. Наверняка каждый может найти для себя свою стилистику автора, но «Сердце Пармы» - это своего рода сердце всего творчества Алексея Иванова. Не только хлесткость сюжета берет за горло читателя, но и некая самобытность стилистики, использование древнеславянских слов, не ломает линию повествования и не мешает литературному пищеварению. Разнообразность главных и второстепенных героев радует своей яркостью и насыщенностью. Стилистика постановки каждого персонажа делает его понятным для современного читателя, но оставляет налет старого быта. Надо точно понимать, что «Сердце Пармы» не исторический роман, а роман-история. Это не означает, что в книге присутствует одна фантазия Иванова, учитывая, что автор блестяще знает краеведение и его роман по сути своей географическая карта истории и культурной антропологии Руси. Ну что же может привлечь читателя, не нагруженного историческими симпатиями к прочтению этой книги? Мне кажется, что эта книга целая эпоха, целая жизнь и с красочными описаниями осады городов, с кровавыми и беспощадными сражениями, с любовью, предательством и ненавистью. Целая жизнь Пармы, как живого организма, поглощающего в себе человеческие жизни и чувства. Жизнь, которая по сути своей такая же, как и сейчас, за каждым князем, жаждущим власти, за каждым язычником, требующим крови и за каждым поворотом, подстерегающим человеческую судьбу, чувствуешь современную аналогию. Конечно, как и упомянул я выше, касаясь такой темы, как история древней Руси, не возможно не залезть одной ногой в язычество. Не вдаваясь в длинные культурно-антропологические изыскания, можно с уверенностью сказать, что Алексей Иванов и здесь знает, о чем пишет. Не совсем гладкая картинка принятия христианства ощетинившейся Руси видна не вооруженным взглядом и любому человеку хоть когда-либо касающегося язычества она ясна и правдоподобна. Прожилки этой щетины, время от времени всплывающие в русской литературе становятся все более частыми. Еще помнится Бунин и его рассказ «Баллада», теперь есть Иванов и Парма. Но не стоит воспринимать роман, как языческое улюлюканье и пощечину христианству. Иванов не ставит целью показывать огрехи или не состоятельность той или иной религий, он просто говорит о истории, о том, что православию на ее уже канонической территории пришлось проделать длинный путь, от капищ, Перуна и Ярила до Иисуса Христа в сердце каждого славянина. Современным неоязычникам может быть это и не понравиться, но при всем уважение автора к языческой исторической культуре, он все же ставит в главенство своего романа христианские ценности. Тяжелый путь становления духовности, и что принято в современности называть «исконностью русской» показан во всем своем полноценном развитии. И с каждым прочитанным листом истинностью становятся слова о том, что христианство, это не наложение на себя креста или принятие крещения, а длинный, длинною в целую жизнь поиск и работа над самим собой. В пылу всего повествования в глаза читателю не раз бросятся образы сказочной нечисти и волшебства. Но нужно хорошо понимать, это не сказки, не детские страшилки из голов бабушек на лавочке. Это то во что верили древние славяне (словени), то про что многие ученые историки писали свои бесчисленные труды и работы: Афанасьев, Рыбаков, Даль и многие другие люди, отнюдь не любители сказок, но любители истории и культурологи. Алексей Иванов не претендует на место среди ученого состава этих людей, он лишь слегка и правдоподобно приоткрывает завесу этой антропологической темы. Он показывает, в форме литературного романа, со всеми вытекающими из этого сюжетными необходимостями, что ко всему в жизни надо стремиться, много добиваться. И что наши предки шли тяжелейшей дорогой, через всю кровь и бурелом древней Руси к тому, чтобы их потомки могли владеть этими землями, могли гордиться соей культурой и историей. Чтобы в душе каждого человека оставалось ясное понимание вещей и исторических фактов. Для меня не остается, не тени сомнения, что Алексей Иванов прочно укрепился в разделе «современная русская литература» и без лишней лести в его адрес, могу сказать, что он уже некий современный классик. По крайней мере когда я слышу фамилию Иванов я всегда уверен, что меня ждет великолепная книга в каком бы стиле она не была написана – это литература с большой буквы. Fargo, ©«Либрусек» 08.02.09 Терри Пратчетт | «Мелкие боги»
Цитата:
Во Второй Скрижали Мгновена Вечно Изумленного есть история о том, как бунтарски настроенный подмастерье Дурврун подошел к Мгновену и рек так: Мелкие боги. Довольно странно, не так ли? С трудом можно представить мелкого бога, а не Создателя или хотя бы Громовержца. Пратчетт, возможно, единственный писатель, осмелившийся ТАК рассуждать о богах. Что происходит с богами, теряющих верующих? Что происходит с богами, в чьих затерянных храмах, за алтарем устроил логово пустынный лев? А что произойдет с богом, во имя которого создали огромную империю, завоевали соседние страны, во имя которого Святая Квизиция ежедневно доказывает несостоятельность доводов оппонентов, каленым железом выжигает скверну? Да вот только незадача, люди перестали верить в Великого Бога Ома, и обратили веру на Церковь, в частности на Квизицию, наглядно демонстрирующую, что их ждет в противном случае. Но повезло Ому, у него остался один-единственный верующий в него, и орел, решивший перекусить, любезно доставил бога к своему последователю. Плоский Мир, по выражению его создателя «зеркало всех существующих миров». В Плоском Мире отражаются все хорошее, и все плохое, поэтому стоит принимать его всерьез. Нужна ли людям вера? Нужна ли вера богам? Эта книга, как и все романы Пратчетта, полна удивительных аллюзий и пародий на наш мир. Каждый человек видит в ней нечто свое. Возможно, именно по образу и подобию верующих вершится образ бога. Возможно, древние жрецы приносили в жертву людей, не потому, что так хотели боги, а потому, что так хотели жрецы. Вероятно, должны быть некие принципы, некая мораль, нарушить которую не дано и богу. Наверное, действительно нужно верить в бога, а не в структуру, а богу следует верить в людей. И конечно «Нельзя Есть Черепах» Hagen, ©«Либрусек» 23.12.08 Юрий Бурносов | «Числа и знаки»
О трилогии Юрия Бурносова «Числа и знаки» не грешно рассуждать на разных уровнях восприятия и осмысления. Можно серьезно рассматривать это сочинение в контексте философии первой половины прошлого века, скажем, бердяевской историософии и юнговской психоаналитики («новое средневековье» и архаические пласты подсознания). Неплохо также разбирать романы как постмодернистский текст или находить там отзвуки мистико-эзотерических учений. Однако простого читателя «Числа и знаки» могут ввести в недоумение, а критика попросту взбесить. Но по порядку... Втягиваясь в чтение первой книги с названием «Два квадрата», испытываешь потребность определить жанр, и с первых страниц он вырисовывается как параисторический роман с элементами мистики. В ряд встают всякие Эко да Перес-Реверте, а намечающийся сюжет видится экзотическим детективом. Мир «Чисел и знаков» – это некое североевропейское средневековье, затянувшееся до Нового времени. В ходу спички и привозимое из-за моря многозарядное оружие. Инквизиция слилась с гражданскими правоохранительными службами, однако преследует лишь самые одиозные проявления колдовства и дьяволопоклонства. Позиции церкви шатки, она явно не раз реформирована и соперничает с набирающими силу ересями. Мир не вполне наш – царящая в нем религия монотеистическая, гуманистическая, но никак не христианство. Следом за историчностью развеивается и версия с детективом. Главный герой, командированный в провинцию, не похож на проницательного следователя, хотя и вынужден выполнять его роль. Он не блещет догадками и медлит с активными действиями, он, скорее, свидетель, наблюдатель разыгрывающейся перед ним драмы. Становится ясно, что мы имеем дело не с детективом, а с книгой загадок, неразрешимых или разрешающихся совсем не так, как мы ждем. И действие в этой книге развивается вопреки всем канонам какого бы то ни было беллетристического жанра. Внешне здесь присутствуют все необходимые и ожидаемые компоненты. Догадки, неожиданные открытия, ловушки, бегства, поединки и кульминационная экспедиция к Сердцу Тайны. Однако ни одно из этих действий не приводит к окончательному результату, ни одна из линий не находит своего завершения, какие-то загадки как бы разрешаются, но ничегошеньки от этого не делается яснее. Читатель подавлен: с одной стороны, он мало что понимает, с другой – захвачен мрачным настроем и поэзией текста. А критик неистовствует поначалу, но, успокоившись, заявляет, что автор попросту никудышний рассказчик. Стилизовать умеет, это да, но ленится работать над сюжетом. Кабы ему хорошего, требовательного редактора... Вторая книга, «Три розы», несколько примиряет с текстом. Во-первых, читатель уже привык, знает чего ждать, точнее, чего не дождаться. Во-вторых, темп повествования не столь рван, композиция спокойнее, да и вообще, уже всем понятно, что герой не самостоятелен, а всего лишь ведом судьбой. Читатели адаптируются к логике романа, приспосабливаются понимать не столько смысл, сколько прелесть необычного текста. А критики спешат констатировать, что автор стал писать лучше – видимо, научился. И странно – когда в третьей части («Четыре всадника», конечно) по полной разворачивается жуткий апофеоз абсурда, добравшимся до нее читателям и критикам это нравится еще больше. Вот уж автор буквально жжет, так что загораются и его реципиенты. Спокойно, по-деловому там происходит конец света, и всем ясно, что ничего чрезвычайного в этом нет. Солнце не встает, восставшие мертвые бродят по улицам, но гражданские службы функционируют нормально, и компетентными инстанциями предпринимается все возможное к восстановлению статус кво. Нечто подобное в нашей литературе было, вспомним хоть абсурд лукинского «Катали мы ваше солнце». Однако то была сатира, анекдот, понятный современному человеку. Бурносов же не собирается нас забавлять, он совершенно серьезно рассказывает историю, порожденную совсем иной культурой и рассчитанную на восприятие сознания другого, не нашего времени. Вопрос в том, на какое место пристроить эту неудобную книгу. У нее есть по-своему замечательные развлекательные свойства, но считать ее беллетристикой невозможно по причине неопределенности аудитории. Невозможно сказать, кому она понравится, а кого отвратит. Тут, похоже, срабатывает не культурный ценз, а нечто потаенное, сидящее в темноте той самой подсознательной архаики. Искушенный читатель в состоянии оценить прелесть стилистической игры в миниатюре, но шестьсот с лишним страниц таких усилий – это либо клинический случай, либо нечто, что стоит прочувствовать нутром. Скорее всего, надо просто отдать должное подвигу Юрия Бурносова, поставившего впечатляющий опыт и давшего поучительный урок. И оставить «Числа и знаки» там, где им самое место – в нише не курьеза, но литературного памятника. Валерий Иванченко, ©«Книжная витрина» 06.12.08 Роджер Дж. Желязны | «Хроники Эмбера»
Кому-то упоминание данной эпохальной вещи в качестве удобоваримой беллетристики покажется чуть ли не святотатством, кто-то улыбнется и кивнет, припомнив прекрасно проведенное время в чудесном и полном неожиданностей мире, оставляющем клеймо на сердце впечатлительного читателя, так же, как оставляет навечно свою метку Огненный Путь внутри каждого, прошедшего по нему. Да, примерно так же – распыляя личность на мельчайшие частицы, а затем воссоздавая ее по крупицам: внешне ты остаешься прежним, но внутри тебя что-то меняется, ты начинаешь по-другому воспринимать многие вещи, приобретаешь иные свойства и не являешься уже тем самым человеком, который некогда ступил на голубую линию завораживающе мерцающего во тьме подземелья узора-лабиринта не взирая на возможную гибель при ошибке в метриках… И правда, что тебе за дело до этих людишек, растворяющихся подобно призракам, когда ты проходишь мимо, сквозь их жалкий мирок, продавливая собою ткань Мироздания? Какова для тебя цена их жизни и смерти, если ты почти бессмертен и насколько ценны их рукотворные чудеса, если за твоими плечами – столетия опыта и сверкающие под неповторимо ярким небом башни единственного Вечного Города – Эмбера, центра и основы Вселенной? Что если ко второй половине своих родственников ты относишься с осторожностью, каждую минуту воспринимая их как потенциальных противников, и они о тебе такого же мнения? Есть такая болезнь, именуемая «Хроники Эмбера», далеко не все симптомы ее описаны, но по тяжести она не уступит болезни, именуемой «Толкиен», а возможно, даже превзойдет ее. Восприимчивость населения к заболеванию, по личным наблюдениям - около 50%. В некоторых случаях болезнь начинается исподволь, нехотя, но со второй книги начиная, переходит в острую форму, которую многие предпочитают скрывать за кислой миной и фразами, типа: «Книга неплохая, но бывает и лучше. А еще есть?». Случается, болеют целыми семьями, оспаривая первенство прочтения продолжения, издевательски улыбаясь ближнему в ответ на вопрос: «Что будет дальше?» и по очереди просиживая ночи напролет на холодной кухне, отгоняя сон отнюдь не кофе, а захватывающим сюжетом. Оставшиеся же 50% невосприимчивых, как замечено, люди сугубо серьезные и «подобными глупостями, какую являет собой фентези» не интересующиеся. Черта с два они правы! Бурная фантазия автора, безусловно, создает предпосылку для подобного расхожего мнения, а на деле «Хроники» воспринимаются как детектив, политическое расследование, авантюрный роман, даже психологическая драма, но не как вышеупомянутый жанр. По признанию самого Желязны, «Хроники» повествуют о человеческих взаимоотношениях, и ни о чем больше. Возможно, этим и объясняется отсутствие привычного для фентези распределения сил «плохие-хорошие», а моментами вообще создается впечатление, что все, без исключения, персонажи – отрицательные. Ученая степень доктора психологии дает о себе знать: характеры героев описаны настолько живо, что даже не верится в то, что они придуманы, взяты с потолка – каждый из них действует подобно живому человеку, и кажется, что смотришь бесконечный документальный фильм со странными декорациями. Для магии и героев места остается совсем немного, упоминается о них как-то вскользь и между делом. И проблемы не заставляют себя ждать, сваливаются в неподъемном количестве, и – как всегда – «в вагнеровском духе», со смертями, политическими распрями, придворными интригами, потусторонними вторжениями и угрозой гибели окружающего мира. Однако, несмотря на глобальность и кажущуюся неизбежность катастроф, персонажи сохраняют трезвость мысли и чувство юмора – а юмор у Желязны поистине неподражаем! – в любой ситуации. И вот что забавно: уже начиная с первой страницы, проваливаешься в повествование целиком, не читаешь и не перелистываешь страницы, а проживаешь книгу – от первого романа до последнего рассказа, вышедшего из-под пера писателя за три дня до его смерти. Подобно своим героям, Желязны не афишировал своих слабых мест и продолжал работать до последнего вздоха. «Пока и привет, как всегда,» - финальной фразой Хроник он оставил о себе напоминание, лучшее из возможных. Библиография «Хроник Эмбера». Романы: Рассказы (главы 11-го романа): Джон Бетанкур - приквелл Хроник Эмбера (история Оберона) (вверх) 12.11.08 Дэн Симмонс | роман «Террор»
Эту книгу лучше всего читать зимой — тогда самые суровые морозы покажутся не более чем легким похолоданием. Впрочем, чересчур впечатлительным я бы рекомендовал подумать, готовы ли они к такого рода чтению. Да и не слишком впечатлительным — тоже. Обычно в ужастиках набор «пугал» не так уж велик: это либо потусторонние силы (в диапазоне от призраков до ктулхуподобных космических пришельцев), либо силы внеличностные (катастрофы, эпидемии), либо зло, таящееся в самих людях. В «Терроре» присутствует и то, и другое, и третье — и к концу романа поневоле задумываешься, которое же из трех зол разрушительнее и безжалостнее. В центре сюжета — история реальной экспедиции, пытавшейся отыскать Северо-Западный проход, морской путь из Атлантики в Тихий океан между островов Канады. Вместо этого пришлось искать самих первопроходцев — и до сих пор никто толком не знает, что случилось там, во льдах. Конечно, работая над таким романом, Симмонс рисковал, ведь финал известен читателю заранее. С другой стороны — мало ли мы знаем романов, где развязка предсказуема? Если задуматься, лучшие книги — они не для разового прочтения, а при перечитывании всегда знаешь, чем все закончится. Просто в таких случаях намного важнее не сам факт «эти умрут, те спасутся», а то, как именно это произойдет. Герои изменившиеся, переосмыслившие все, что с ними случилось, — в чем-то они сродни золоту, которое появляется во время алхимического Творения. Персонажи Симмонса — именно из этой категории. Мы видим, как меняются команды двух кораблей британского флота, «Террора» и «Эребуса», оказавшись в ледовом плену. Предысторию плена мы узнаем позже — с первых же страниц Симмонс погружает нас в эпицентр зловещих событий на борту «Террора». Прошло несколько лет экспедиции, запасы на исходе, отчаяние постепенно подтачивает сердца. И тут же — воспоминаниями из прошлого — разительный и трогающий душу контраст: какими были надежды и планы, как хорошо начиналось плавание. Срабатывает эффект, который использовали еще древние греки в своих трагедиях: читатель знает, какие беды ждут ничего не подозревающих героев, и от этого драматизм только усиливается. Глупость руководителя экспедиции, нечистые на руку поставщики консервов, роковое стечение обстоятельств — все вместе приводит к тому, что корабли затирает льдами вдалеке от земли. Впереди три года жгучих морозов, кажущихся бесконечными полярных ночей, голод, цинга, смерти... Как будто всего этого мало, людей начинает преследовать таинственный хищник, не по-звериному сообразительный и целеустремленный. Он похож на белого медведя, но практически до самого финала автор не раскрывает секрета его происхождения. Тварь нападает на моряков, месяцами выжидая удобного случая. Постепенно гибнет почти весь офицерский состав. Один из выживших — капитан «Террора» Френсис Крозье — воспринимает нападения чудовища как личный вызов. Крозье — отнюдь не голливудский мачо, у него хватает «тараканов в голове»: несчастная любовь, уязвленное честолюбие, хронический алкоголизм. Но при этом именно стальная воля Крозье удерживает уцелевших от оскотинивания, а самый впечатляющий из подвигов капитана — его борьба с собственной тягой к спиртному. Как всегда, Симмонс вводит в роман элементы литературной игры. В момент наибольшего отчаяния капитаны устраивают для команд рождественский карнавал. Импровизированный зал на льду, в котором и происходит гуляние, выстроен наподобие коридора комнат из «Маски Красной Смерти» Эдгара По. И, разумеется, карнавал в таких зловещих декорациях не мог не завершиться очередной трагедией... Перед Симмонсом стояла сложная задача: рассказать о том, как сложилась судьба экспедиции, почему оказалась неудачной миссия спасателей, отправившихся по следам «Террора» и «Эребуса». Поначалу кажется, что именно для этого автор вводит фантастический элемент: оказывается, Крозье от бабушки передались сверхъестественные способности. В бреду, пытаясь побороть свою тягу к спиртному, он «проваливается» в будущее и видит фрагменты тех событий, которые так или иначе связаны с поисками двух кораблей. И только много позже понимаешь, насколько слаженны и продуманы все детали головоломки. Странные сны Крозье, диковинный зверь, безъязыкая эскимосская девушка, подобранная моряками и живущая на «Терроре»... все складывается в единую величественную картину. Итог: пожалуй, «Террор» — один из самых сильных романов Симмонса. Книга-глыба — такую не враз одолеешь и вряд ли когда-нибудь забудешь. 10/10. Владимир Пузий, журнал «Мир Фантастики» 03.11.08 Саймон Грин | серия «Темная Сторона»
Британец Саймон Грин известен как автор героического фэнтези, где обильное кровопускание соседствует с детективным сюжетом и элементами готического хоррора. Новый цикл Грина “Темная Сторона” заметно выделяется из ряда традиционных для писателя тем. Прежде всего, действие происходит не в сказочном псевдосредневековье, а в современном мире — пусть и частично. Но самое главное — писатель попытался отказался от привычных сюжетных схем. Частный сыщик Джон Тейлор обитает в современном Лондоне. Он одинок, неприкаян и не слишком удачлив. Правда, у него есть замечательная способность разыскивать вещи или людей. Особенно хорошо это получается на Темной Стороне. Главная удача романов о Тейлоре — выразительное описание Темной Стороны, магической зоны посреди Лондона, куда люди отправляются в поисках запретных удовольствий. Здесь всегда царит ночь, отсутствие солнечного света возведено в принцип, как будто это параллельное пространство затемнено мириадами преступных мыслей его обитателей. Темная Сторона — перекресток разных миров, здесь маги и демоны могут столкнуться с пришельцами из космоса и путешественниками во времени. Такой мир просто не должен существовать — его можно лишь выдумать. Джон Тейлор здесь родился, его отец умер от алкоголизма, а мать... О, это отдельная песня! Герой всячески пытается узнать правду о своей матери, но разгадка все время ускользает от него. Чем-то это напоминает поиски истины Фоксом Малдером из “Секретных материалов”. Кажется, тайна вот-вот раскроется, но, увы и ах... очередной путь ведет в никуда. Перед нами — детективы в стиле нуар. Частный сыщик Джон Тейлор совершает свои подвиги на Темной Стороне Лондона — странном местечке, где демоны живут по соседству с людьми, прошлое встречается с будущим, а магические и технологические миры перетекают друг в друга. Грин великолепен по части создания антуража. Темная сторона и ее обитатели — это нечто! По циклу можно сделать замечательный аниме-сериал: все эти Плакальщики, Безумцы, Грешники и Слепые Пью так и просятся на экран. Итог: несмотря на название серии, цикл Грина — не мистика, а самое натуральнейшее темное фэнтези (темнее не бывает). Читать стоит — особенно из-за обилия оригинальных локаций и персонажей. Что до основной мысли книг... Есть тайны, какие лучше оставить в могиле, не пытаясь извлечь их на свет божий. Но каждый должен сам сделать выбор — иметь или не иметь! Борис Невский, журнал «Мир Фантастики» |
|